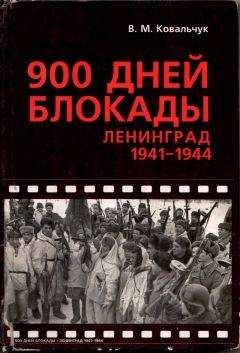в наивысшей точке подъема он зависает намного дольше положенного. А потом начинает падать.
* * *
— Мама!
— Не бойся, милая, обними мамочку. Настя! Настя, посмотри на меня. Все будет хорошо! Слышишь меня? Не бойся! Все будет хорошо!
Хлопок и жуткий свист воздуха, разрывающего оболочку фюзеляжа. Треск рвущейся ткани. Удар…
* * *
Я открываю глаза и вижу почти у самого лица наливающееся пунцовым, с тонкими проколами звезд вечернее небо. Солнце уже коснулось края морского горизонта. Я поднимаюсь, стягиваю прилипшую к спине футболку, оставляю ее в песке вместе с шортами, иду к ленивой кромке воды, захожу в теплое переливающееся море. Плыву. Солнце почти целиком погрузилось, будто ушло под воду, я ныряю за ним следом и вижу его. В далекой бурлящей океанской глубине огромное, окруженное невероятного размера светящимися пузырями, поднимающимися к поверхности, завораживающее и желанное, огромное тонущее солнце.
* * *
— Алло.
— Ты спишь, что ли? Помнишь, что завтра летишь в Гурзуф? Васильич сказал, что тебя с утра в офисе не было. Документы забери.
— Не поеду я, Сергей Иваныч. Приболел. Сон дурацкий приснился. Давай Евтюхова пошлем.
— Какого Евтюхова, Андрей? Ты что?
— Дай мне лучше отпуск, Сергей Иваныч. У меня от недосыпа уже крыша едет, устал я.
— Не помню, чтобы ты так легко сдавался. Что случилось?
— Мне вообще нужно крепко подумать, своим ли я делом занимаюсь…
— Да ты что такое говоришь?! Ты же переговорщик от Бога! Давай не дури. Ты когда такой мнительный стал?
— Тебе бы такое приснилось… Как будто я уснул в самолете, который разбился. Типа, сон во сне.
— Что-то ты, друг, загоняешься… Евтюхов не потянет. Тогда уж сам поеду. А с опционом придется подождать, Андрей Сергеевич.
— Ну придется, значит, подождем.
— Давай-ка реально в отпуск… Недели хватит?
— Не знаю. Поеду куда-нибудь. Кстати, место там красивое. В Гурзуфе. Пляж большой. Скала…
— Да, есть такая. Так ты смотрел документы?
— Не поверишь, приснилась. Поедешь туда, расспроси про Настю.
— Какую Настю? Ладно, потом расскажешь.
— Девочку, семи лет… Знаешь, Сереж, «потом» ведь может никогда и не наступить.
Я закрываю глаза и вижу ее. Она стоит лицом к морю, на самом краю стены, раскинув руки, словно балансируя, легкая в легком белом платье.
Как всегда, ночь в южных городах наступает мгновенно, и происходит это примерно так: кровавый желток солнца тонет в мареве накопленной за день жары, все герои, все части природы застывают на подмостках сцены в ожидании совместного акта затемнения, и затем, разом, вдруг, вместе с солнцем падают за холмы и горы, а на небе начинают пульсировать яркие мусульманские звезды. Даже собаки, не успев напоследок облаять прошедший день, падают у своих будок, вывалив шершавые языки в ночной сон после невероятной, настоянной на поте и пыли духоты…
Так и Карасубазар однажды уснул всеми пирамидами дынь и арбузов на базаре, возчиками на телегах и бричках, полицейскими на недописанных протоколах, грузчиками на своих мешковинах… Уснул всеми своими жителями в домах и садовых постелях, даже рекой, замедлившей ход рыб и мелких течений. Все умолкло, запахло полынью, лавандой, степными ромашками, словом, все раскрылось, расслабилось до утра, отдалось друг другу без капли недоверия. Южные ночи так коротки, что только коснешься подушки, а потом даже на миг откроешь глаза, как уже небо светлеет пятнышком нового солнца на востоке и не дает опять впасть в беспамятство, в сон…
В одну из таких ночей зацокали копытами по булыжнику кони бандитов, стали потихоньку глохнуть, стихая за городом вдалеке. И вдруг потянуло дымом и криком, огнем и пожаром. Делаясь под казачков, банда пришла из-под Ишуни и подпалила два молитвенных дома. И проснулась окраина крымчаков Хаджема, все побежали гасить свои каалы. А кони с всадниками все удалялись, только и оставляя в темноте брань и проклятия на разных языках и еще вот это, знакомое:
— А что, жидков поджечь — дело полезное…
Всадники исчезли в соленых степях, а каалы горели, разгораясь и разгораясь, и все сбежались тушить их чем только можно… Пожарные сверкали шлемами и ведрами, крик и рыданья смешались в воздухе, дети стояли, и на их лицах был жар от огня. К утру пожар погасили с трудом. Двери горели, рамы, какие-то рукописи… Но большинство рукописей исчезли.
Ребе сказал:
— Будем еще разбираться, что осталось. — Все двинулись по домам. А там… Дома были разграблены, пока все тушили каалы. Бандиты действовали слаженно двумя группами. Видно, продумано все было толково, чуть ли не по-военному. Все было собрано в тюки, все нажитое годами, вместе с подушками, коврами и одеялами, сметали подчистую. На полу разбитое стекло, рассыпанная мука и чай: деньги искали и золото. Пропали и домашние тетради для записей — джонки. Навьючили все на лошадей и даже на угнанного с базара верблюда и — через горы… Куда? На Феодосию, Сурож, к морю и лодкам. Знали, куда. Плакали дети опять, матери плакали, и ничего не отражалось на их лицах, кроме недоуменного: «За что нам такое?» Более двадцати семей пострадало…
Карасубазар проснулся от шока почти весь, но некоторые еще спали. Сразу начали приходить, жалеть, армяне несли простыни, татары еду, караимы и греки денег собрали. Ребе сказал, что община поможет каждому дому. Но разве дело только в этом? Коварство. Да еще и вот это — «жидков пожечь и пограбить — дело полезное»… Обидней всего. Утром поймали одного из нападавших: молодой, лет семнадцати. «Откуда? — Да и сам не знаю. — А банда откуда? — Из-под Ишуни»… Полицейские держали его в участке двое суток, а потом выбросили на крыльцо и сказали:
— Полоумный какой-то, что хотите, то и делайте с ним.
А что делать? Страсти улеглись, обида остыла, и жалкий он какой-то… Ребе сказал: пусть посидит три дня и три ночи привязанным к дереву на Ташхане, пусть люди на него посмотрят, пусть он посмотрит в глаза нашим детям. А потом пусть живет у нас в городе. Это ему и будет наказанием. Так и сделали. Днем ему приносили еду, а на третий день сказали: «Отпустим к вечеру». А к вечеру его украли. Слух прошел, что за ним по следу шли сыскари. Месяца два никто ничего не слышал. Ограбленные уже успокоились, привыкли, и вдруг к Ребе пришли из полицейского участка и пригласили на разговор.
— Вы или дело делайте, господа полицейские, или ущерб общине возмещайте, — сразу начал говорить им Ребе.
— А вы не очень тут расходитесь, здесь вам казенное учреждение,
![Крым, я люблю тебя. 42 рассказа о Крыме [Сборник] - Андрей Георгиевич Битов](https://cdn.my-library.info/books/397705/397705.jpg)